Бродячие сюжеты и реальные волшебники
Наблюдая за тем, как в очередном российском сериале сюжет закручивается вокруг малоэтичных экспериментов таинственного «колдуна с Сухаревой башни» Якова Вилимовича Брюса, я задумалась над далеким от политики «двойным стандартом» нашего времени: чтим мы науку, а увлекаемся все же историями о сверхъестественном. Ведь реальный сподвижник Петра I никого бы не интересовал, не ходи о нем слава чародея и чернокнижника. В самом деле, даже великому Петру нынче достается меньше внимания.
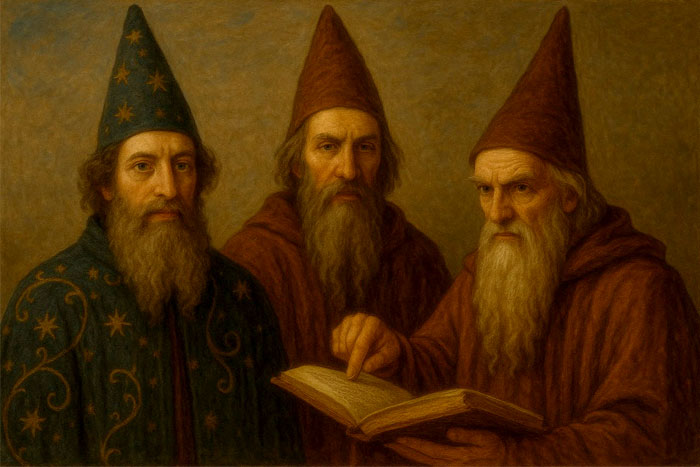
ЯКОВ БРЮС
Впрочем, ученые люди всегда вызывают у менее ученых собратьев опасливую почтительность, всегда готовую перерасти в уверенность, что сила, обретенная вместе со знанием, дарована не Богом, но его противником. Правда, тут нужна поправка: современный академик, если и даст повод для подозрений, то скорей уж в коррупции, чем в чернокнижии. И у него совершенно точно нет никаких шансов прославиться в качестве волшебника. (В прошлом веке из ученых такой чести удостоился только загадочный Никола Тесла, но и это случилось во времена, когда электричество было диковиной.)
А так как истории, связанные с «реальными волшебниками» крайне любопытны, предлагаю познакомиться с ними поближе.
За Брюса я возьмусь чуть позже, пока же расскажу о другом шотландце — Майкле Скоте, в буквальном смысле оказавшимся персонажем детских сказок. На русский переведена лишь пара историй да поэма Вальтера Скотта «Песнь последнего менестреля», где есть упоминание о маге.
МАЙКЛ СКОТ
Реальный Михаэль (Майкл) Скот жил в XIII веке, образование получил в Оксфорде и Сорбонне, где изучал тогда еще дозволенную церковью алхимию и астрологию, а также математику и медицину, позже стал наставником и астрологом императора Фридриха II (чьим дедом был славный Фридрих I Барбаросса), а еще позже отказался от поста архиепископа Кашелского, предложенного ему тогдашним папой Гонорием III. Много времени провел в испанском Толедо, где занимался переводами для императора трудов Аристотеля и арабских мыслителей. Кстати, именно его перевод трактата Аль-Хорезми помог Фибоначчи открыть знаменитый ряд чисел, описанный в Liber Abaci последнего. Сам Скот тоже писал книги, но для истории его переводы оказались важнее: это было возвращение европейцам эллинистической культуры, сбереженной от уничтожения… завоевателями-арабами. Труд многочисленных переводчиков позднего Средневековья в итоге стал своего рода мостом, соединившим Античность с грядущим Возрождением.
И вот этого серьезного человека сказки называют «величайшим магом и волшебником Шотландии» и рассказывают о нем следующее: он летал в Рим на волшебном коне, чтобы узнать у понтифика дату Пасхи, а еще использовал свои магические знания против простых людей, когда те оказывались не слишком любезны и не спешили оказывать магу должное почтение. Так одна деревенская женщина поплатилась за отказ поделиться со слугой сэра Майкла куском хлеба, хотя на столе ее стояла свежая выпечка. В отместку волшебник достал «чертов палец» и велел слуге незаметно спрятать его за дверной притолокой. Хозяйка после этого запела и пустилась в пляс, а с ней вместе все, кто входил на кухню. Несчастные пели и плясали до тех пор, пока слуга не забрал костяшку. В то же мгновение танцоры рухнули на пол и проспали неделю.
Еще о нем рассказывают, что однажды для угощения гостей он отправил духов стащить блюда с королевских кухонь Франции и Испании. В другой раз ему попались ведьмы, которые устроили шабаш, и Скот обратил их в камни. (Те камни и сейчас показывают в Шотландии — это круг стоячих камней, известный как «Длинная Мэг и ее дочери».)
Вальтер Скотт упоминает в своей поэме о том, что был когда-то в подчинении у мага один неуемный дух, которого тому требовалось постоянно занимать работой. Именно из-за него Эйлдонский холм, бывший некогда единым целым, обрел три вершины — волшебник надеялся, что сможет тяжелой работой занять духа надолго, но тот управился за ночь. После этого маг повелел ему сплести веревку из морского песка, чем трудолюбивый дух и занят по сей день.
Примечательно, что волшебником Майкла Скота стали считать практически сразу после смерти. Слава его распространилась далеко за пределы Шотландии и не оставила равнодушным даже Данте, который упоминает Скота в восьмом круге Ада, предназначенном для волшебников, астрологов и лжепророков, лгавших людям о том, что способны видеть будущее.
РОДЖЕР БЭКОН
А вот другого «реального волшебника» еще при жизни подозревали в занятиях черной магией — это был младший современник Майкла Скота Роджер Бэкон, с которым тот познакомился во время учебы в Оксфорде или Сорбонне. Биография Бэкона оказалась богаче на события, да и истории про него увлекательнее. Он верил не только в Бога, но еще и в математику, полагал, что опыты возможны не только в мире материи, но и мире духа, писал многочисленные трактаты, включая весьма объемистые труды, призванные отвести от него подозрения в ереси (каковые все же возобладали после смерти его высокого покровителя). Долгое время не сдавался в войне с невежеством (распространенным и среди людей духовного звания), но ничего хорошего из этого не вышло — противник взял его и числом, и умением, так что бедный францисканец оказался в итоге под арестом. Жизни его не лишили, но крови попили. В наши дни о нем помнят как об изобретателе очков и создателе говорящей медной головы. С непривычки, Роджера, бывает, путают с куда более известным однофамильцем из XVI века — Фрэнсисом Бэконом (которого некоторые, кстати, называли настоящим автором шекспировских пьес).
Легенды же рассказывают о монахе Бэконе как о владельце волшебного зеркала, где отражались все события на земле и небе в радиусе 150 миль от смотрящего, а также не менее волшебного стула, способного летать по воздуху (так как стул был, само собой, одноместным, пришлось однажды Бэкону лететь с одним несчастным джентльменом у себя на коленях — картина вполне себе в духе Марка Шагала). Зеркало то, кстати, он сам однажды разбил в большой печали, когда оно стало причиной гибели двух ни в чем не повинных молодых людей. Но не только магические искусства составляли его обширные познания. Доводилось ему прибегать и к обычной физике, например, тогда, когда он обещал английскому королю помощь в захвате одного французского города. Для этого сначала пришлось возвести гору рядом с городом, потом на горе установить систему линз и зеркал, направлявших и фокусировавших солнечный свет для поджога городской ратуши.
Есть легенда и про упоминавшуюся выше говорящую голову. Бэкон хотел оградить Англию бронзовой стеной, что помешать всем будущим ее завоевателям. Но для того, чтобы она получилась волшебная, нужно было узнать подходящее время для ее возведения. А сообщить это время могла только голова из бронзы, каковую они с помощником и соорудили, после чего дьявол научил их ею пользоваться. Нужно было лишь не пропустить момента, когда голова заговорит. Но слуга, которого подрядили следить за головой, счел, что слов «Время пришло» недостаточно, чтобы будить хозяина, так что Бэкон услышал только грохот разваливавшейся на части головы, успевшей прежде сказать лишь, что «время пришло, прошло и ушло». А если бы он успел вовремя, то быть бы Англии непобедимой до скончания времен.
Кстати, интересная штука: рассказанная выше история о том, как Майкл Скот заставил плясать до упаду негостеприимную хозяйку, в случае с Бэконом превратилась в историю о трех ворах, которые пришли грабить Бэкона и даже забрали всю имевшуюся у него наличность, но под конец согласились на предложение хозяина послушать игру его слуги Майлза на дудочке и барабане. Да только стоило ему заиграть, как они уже не смогли удержаться на месте. В итоге Майлз завел танцующих в болото, а потом оставил их, грязных и мокрых, высыпаться на берегу после утомительного танца.
Ну, раз уж пошла речь о перекличке историй с одинаковым сюжетом, но разными действующими лицами, не могу не упомянуть еще об одной. Как и было обещано, речь пойдет о Брюсе, с которого сегодня все и началось. Не стану пересказывать его биографию и большинство легенд, потому что о нем уже писали многие и с удовольствием. Но одна история повторяется из раза в раз с незначительными вариациями. Говорится в ней о том, как Брюсу однажды удалось отыскать средство для омоложения людей. Правда, для применения его нужно было сначала убить человека, потом разрубить его на части, полить эти части определенным составом и подождать некоторое время, пока те не срастутся. После оставалось лишь обрызгать его живой водой, и человек вставал молодой и живехонький. Это средство Брюс собирался применить на себе и поручил сие деликатное дело своему верному слуге. В одних вариантах слуга оказывался не таким уж верным, в других причиной неудачи становился царь, невовремя затребовавший себе Брюса, но, так или иначе, что-то обязательно мешало провести последнюю стадию воскрешения. Поэтому Брюс умер окончательно.
История о Вергилии отличается от этой только нюансами. Он тоже нашел средство для омоложения и доверил себя испытанному слуге. Его тоже нужно было сначала убить, порубить на куски, а голову рассечь на четыре части. После этого останки должны были быть сложены по порядку в большую бочку и засолены. Бочку же следовало поставить под особую лампу, с которой в нее капало бы масло. Процесс занял бы 9 дней, в течение которых слуга должен был следить, чтобы масла в лампе было довольно. И снова вмешался правитель, пожелавший увидеть поэта до срока. Было это на восьмой день. Завидев просоленные и промасленные останки поэта, император в ярости убил слугу. Тогда из бочки выскочил голый младенец, трижды обежал вокруг нее, проклял императора и исчез. А то, что осталось от Вергилия, похоронили.
Между двумя почти идентичными историями пролегли века. И знаете, что мне все это напомнило? Одну случайную находку. Однажды я рылась на книжной полке и нашла там сборник персидских анекдотов XIII-XIV века. Дело было давно, я уже не смогу привести примеры из той книги (если только не отыщу ее снова), но помню то, что меня до крайности удивило: я уже слышала некоторые из этих анекдотов от кого-то из своих знакомых. А значит, истории эти с легкостью одолели промежуток времени почти в 700 лет и оказались вполне годны для развлечения людей столь разных времен и культур.
Тут напрашивается один неудобный вопрос: неужели человеческая фантазия столь скудна, что не может придумать что-то новое? Историй, конечно, не так уж мало, но ведь это одни и те же истории, чьи варианты встречаются на всех континентах (да, и так тоже, что существенно затрудняет объяснение с помощью теории заимствования), ничуть не смущаясь необходимостью преодолевать барьеры временные, языковые, государственные или океанические.
А если речь идет о легендах вокруг исторических личностей, обычно ищут зацепки в их реальной биографии, которые дали пищу для вымысла — в случае Брюса, например, говорят о том, что где-то сохранились сделанные им чертежи механического человека (фантазия превратила этот автомат в немую цветочную служанку — девушку, которая рассыпалась цветами как только из ее головы Брюс вынул штифт). Но о каких зацепках можно говорить, когда мы имеем дело с чисто сказочным сюжетом, где убитого разрубают на куски, поливают сначала мертвой, потом живой водой, и он воскресает?
Гипотетические объяснения, которые единственно пришли мне на ум, слишком поэтичны: это сами истории нашли способ проявиться и обрести бессмертие посредством человеческой памяти, кочуя из поколения в поколения, используя нашу вечную тягу ко всему забавному и сверхъестественному и прикрываясь разными историческими и безымянными персонами, чтобы их рассказывали снова и снова. Или это послания неизвестного отправителя неизвестному адресату, отправленные вниз по реке Времени в хрупких сосудах памяти.
Автор: Кузьмина Ольга
Пожалуйста, оставьте отзыв о нашем сайте. Большое спасибо!
Хотите больше? Ищите нас в соцсетях: ВКонтакте X (Twitter)
